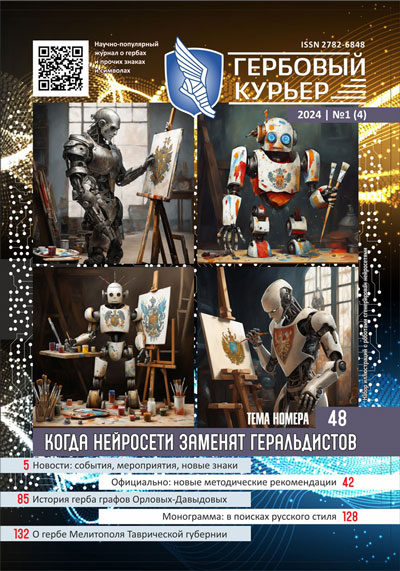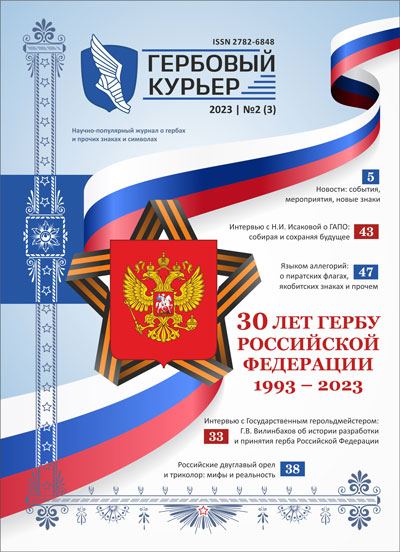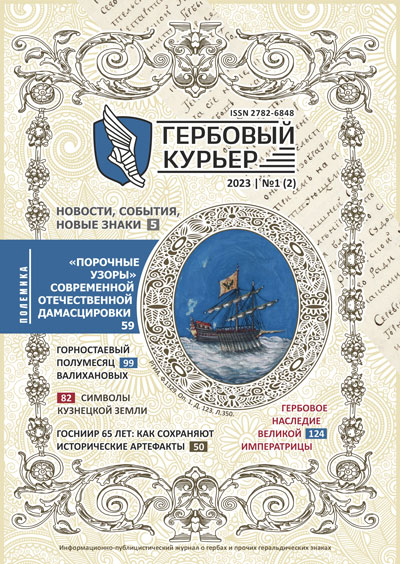Рижский герб (к 800-летию Риги) [примечания]
/ В.Е.Пастор
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Такое пожелание высказал историк, краевед и картограф Лифляндии Карл фон Лёвис оф Менар при обсуждении появившегося в 1901 г. рисунка "исправленного" городского рижского герба, созданного городским архитектором В.ф.Штриком (см.: Mettig-4, S. 129). Этот вариант герба был разработан специально к празднованию 700-летия Риги. К. ф. Лёвис оф Менар (подписывавший статьи и полным своим именем, и инициалами L. и K. v. L. или K. v. L-s) проявлял большой интерес к истории рижского герба; известны его публикации на эту тему. Собрание рижских гербов (в количестве более 60 штук), подготовленное лифляндским краеведом и историком Константином Меттигом, было представлено на геральдической выставке в Митаве (современной Елгаве) в 1903 г. В дальнейшем было напечатано много интересных и ценных работ по истории герба г.Риги; однако все они были далеки от замысла, высказанного в 1901 г.
2 Bresslau, S. 534 [подстрочное примечание 1]; Seyler-2, S. 307.
3 В качестве едва ли не единственного примера городского герба конца XIII столетия Н.А. Соболева называет герб города Нюрнберга (см.: Соболеав-1, с. 13 со ссылкой на статью Р. Шафера 1937 г.). Ф. Гауптман считал самым ранним примером городского герба - герб Любека на печати 1369 г. (см.: Hauptmann, S. 126 со ссылкой на журнал Herold, 1884, S. 22).
4 Seyler-1, S. 305-313; Seyler-2, S. 302 - 307; Hauptmann, S. 117-130. Следует подчеркнуть, что такой подход правомерен при изучении сфрагистики и геральдики именно средневековых городов. В более позднее время города могли наделяться гербом и печатью с таким же изображением одновременно.
5 Рига: энциклопедия, с. 41, 240.
6 История Латвийской ССР, с. 133. "Старейшим гербом Риги" названо изображение на печати 1225 г. и в альбоме репродукций экспонатов Домского музея, изданном в 1990 г. (см.: Музей истории, русский текст, после [#] 34; издание без пагинации). Для советских изданий послевоенного периода такой подход легко объясним тем, что в это время геральдика официально не признавалась наукой. В 70-80-е годы выходит ряд работ посвящённых этой отрасли; в частности, Н.А.Соболева хоть и кратко, но останавливалась на проблеме появления городских гербов в Западной Европе (см.: Соболева-1, с.11-15). Приведённые примеры отождествления городских гербов и печатей в российской литературе 80-90-х годов свидетельствуют о том, что многие историки и искусствоведы по-прежнему не считают геральдику серьёзной исторической наукой и не знакомы с исследованиями в этой области, но полагают себя достаточно компетентными, чтобы писать о гербах.
7 Соболева-1, с. 14-15.
8 Спор о фамилии епископа Альберта - давнего происхождения. Документально она не зафиксирована и судить о ней можно только по косвенным данным. Одни исследователи на основании некоторых источников давали ему фамилию ф. Буксгевден, другие - ф. Апельдерн. Сторонники последнего мнения (например, Goetze, Taf. I, #3) приводили в качестве доказательства тот факт, что документально установленный его брат Герман, епископ Леаля и Дерпта, носил фамилию ф. Апельдерн. В первой половине XX века возобладало мнение, что Герман был сводным братом Альберта, и рижского епископа следует называть - ф. Буксгевден (см., например, Brockhaus Enzyklopдdie, Bd. 1, S. 286, "Albert I Buxhoeveden"). Однако, и в самом конце XX века некоторые авторы называют его ф. Апельдерн, правда, не приводя доказательств (см.: Колбергс, с.17).
9 Вопрос о дате официального основания ордена меченосцев остаётся невыясненным. Реальным организатором этой корпорации является епископ Альберт. Вряд ли возможно отнести основание ордена к 1200 г., как думали некоторые историки (см.: Лависс, Рамбо, с. 567). По-видимому, первые шаги по его созданию были предприняты помощником Альберта монахом-цистерцианцем Дитрихом Трейденским (названном так по месту активной проповеди его) в 1202 г. в отсутствие епископа, отбывшего в Германию для организации очередного набора крестоносцев. Генрих Латвийский пишет, что в этом (1202) году "брат Теодорих [т.е. Дитрих] учредил братство рыцарей Христовых, которому господин папа Иннокентий дал устав храмовников [т.е. тамплиеров] и знак для ношения на одежде - меч и крест, велев быть в подчинении своему епископу"? (см.: Генрих Латвийский, с. 70). Понятно, что сам "брат Теодорих" учредить новый орден не мог; вряд ли мог это сделать и епископ. В 1203 году Дитрих по поручению Альберта отправился в Рим, где, в частности, должен был получить согласие папы на создание нового ордена. Судя по всему, Дитрих возвратился домой с папским разрешением, и начало существования "братству воинства Христова" было положено. Однако, булла, по которой Иннокентий III учредил этот орден, неизвестна (невзирая на сообщения некоторых современных писателей, утверждающих, что такая булла появилась в 1202 г.; см., например: Колбергс, с.18, но ведь Дитрих Трейденский к тому времени ещё не встретился с папой!). Обычно папа возвещал о создании нового ордена специальным посланием (как это было с тамплиерами, иоаннитами, тевтонцами и т.п.). В булле от 12 октября 1204 г. Иннокентий III упоминает о новом образовании, признавая тем самым факт его существования; видимо, поэтому некоторые авторы считали, что новый орден был утверждён в 1204 г. (например, см.: Лависс, Рамбо, с. 567; Stьckelberg, S. 116). Но о папской санкции на создание нового ордена в этой булле не говорится. Комментатор "Ливонской хроники" С.А. Аннинский считал, что "действительное утверждение ордена состоялось в 1210 г. и содержится в булле от 20 октября, утверждающей раздел Ливонии" (см.: Генрих Латвийский, с. 255). Однако, трудно представить, что папа утвердил орден через шесть лет после того как сам впервые упомянул о нём (в 1204 г.). Скорее всего, Иннокентий III не утверждал "братство воинства Христова" отдельной буллой по той причине, что этот орден подчинялся местному иерарху (епископу Альберту). Ведь известные буллы, возвещавшие образование организаций тамплиеров, иоаннитов (госпитальеров), тевтонцев и других, касались только орденов, подчинявшихся непосредственно папе. Вместе с тем, факт слияния меченосцев с тевтонцами (точнее, включения ордена "воинства Христова" в Немецкий орден) оформлен, как и полагается, отдельной папской буллой от 13 мая 1237 г. (см.: Strehlke, S. 231). В связи с отсутствием документальных данных об основании ордена меченосцев, в настоящее время датой появления его условно считают 1202 г., т.е. год первого сообщения о его формировании (например, см.: Brockhaus Enzyklopдdie, Bd. 17, S. 190, "Schwertbrьderorden").
10 История Латвийской ССР, с. 115, 131.
11 Bunge-1, S. 12.
12 Следует отметить, что достоверные сообщения о создании городского совета (рата) датируются началом (весной) 1226 г. (см.: Арбузов, с. 29-30, примеч. 1; История Латвийской ССР, с. 132, 625), а первый документ, скреплённый городской печатью, относится к декабрю 1225 г. (см.: Mettig-2, S. 128), что вызывает определённое недоумение. Нет пока и удовлетворительного объяснения длительному промежутку времени от волнений в Риге 1221 г. (которые Л.Арбузов называет "беспорядками", а историки советского времени - "восстанием") и появлением рата в 1226 г. Казлось бы, городской совет должен был возникнуть сразу же после того, как епископ проявил слабость власти (в 1221 г.), а не спустя пять лет. Поэтому непосредственная связь между "восстанием" и появлением рата остаётся под вопросом, хотя советские историки считали, что именно тогда (т.е. в 1221 г.) "Рига стала независимой" (см.: История Латвийской ССР, с.115). В хронологическом плане, сообщение об организации городского совета следует за приездом папского легата Вильгельма, епископа города Модены. Не исключено, что появление рата произошло в более мирной обстановке - за столом четырёхсторонних переговоров, в которых участвовали папский легат, рижская епархия, орден меченосцев и представители горожан. Во всяком случае, такой вывод можно сделать на основании договорной грамоты, в соответствии с которой впредь завоёванные земли, в том числе, территория Риги должны были делиться на три части, принадлежавшие, соответственно, епископу, ордену и городскому совету; эта грамота скреплена печатями названных четырёх сторон (точнее, всего печатей - пять, т.к. рижский епископ и соборный капитул использовали каждый свою печать). Однако, Л.Арбузов сомневался в наличии связи между приездом Вильгельма Моденского и организацией городского совета и высказывал предположение, что "совет образовался постепенно, по мере развития города" (Арбузов, с. 29). Видимо, этот тезис и развил впоследствии К.Меттиг, когда писал: "Сразу после основания Риги представительство горожан (а может быть уже и совет) выбрало для своей печати изображение городской стены с башнями..." (см.: Mettig-2, S. 128). Но Л. Арбузов, высказывая своё предположение, тут же оговаривался, что конкретных данных на это счёт нет, и когда и как возник городской совет - не известно.
13 На рисунке 1 приведена прорисовка печати 1226 г. (см.: Brieflade, Taf. 20, #21). Фотографические снимки с оттисков печатей 1225, 1226 и 1232 гг. можно найти в ряде работ (например, см.: Mettig-1, S. 30/31; Mettig-2, [рис.] #1; Neumann, Fig. 10, S. 5 и др.); похоже, они все сделаны одной печатью. В данной статье я их не привожу, т.к. воспроизведённые фотографии всегда имеют худшее качество по сравнению с воспроизведённой прорисовкой, но речь идёт об одном и том же изображении на печати.
14 Bunge-1, S. 166.
15 Как показал Г. Зейлер на примере печати города Кэпеник (Kцpenick), если в городской печати присутствует ключ (или ключи), а главная церковь города посвящена Петру, то этот ключ (или ключи) символизируют не независимость города, а апостола Петра, как покровителя главной церкви (см.: Seyler-2, S. 327 und Fig. 333). Поэтому, видимо, не прав был Ф. Зиверт, когда писал о печати рижских купцов ("черноголовых"), представлявшей будущий рижский герб, что между башнями расположены "городские ключи в крест" (см.: Sievert, S. 56).
16 Например, Napiersky-1, S. 371, Bunge-1, S. 80-81, A. v. R., S. 276 и др.
17 Arndt, S. 309.
18 Mettig-2, S. 128; Mettig-4, S. 130.
19 Bruiningk-1, S. 522; Bruiningk-2, S. 22-23.
20 Transehe, S. 34.
21 Bьchler, S. 408/409. На этом изображении архиепископ держит в правой руке посох, в левой поднятой - евангелие.
22 Климанов, с.110-111, #113. Правой рукой архиепископ благословляет верующих, в левой держит архипастырский посох.
23 Goetze, Taf. I, #3; Brieflade, Taf. 22, #1; Manteuffel, S. 12/13 (рис.2). Другой вариант печати Альберта (руководившего епархией в 1199-1229 гг.) приведён, в частности, в моей статье в "Гербоведе" #49 (11,2000), с.84, рис.1.
24 Печать епископа Николая (возглавлял епархию в 1229-1253 г. г.) можно видеть в тех же источниках: Goetze, Taf. II, # 8; Brieflade, Taf. 22, #2; Manteuffel, S. 20/21. На печати Николая епископ держит в левой руке книгу (евангелие), а в правой - посох, также незамкнутой частью навершия к себе.
25 Brieflade, Taf. 22, #5. Хотя Иоганн I ф. Луне является вторым рижским архиепископом (после Альберта Зюрбера), но он первый пользовался печатью, на которой значится "архиепископ рижский" (там же, с.98).
26 A.v.R., S. 276. Развёрнутая рецензия на статью К.Меттига "Развитие герба города Риги" (см.: Mettig-2), представляющая, по существу, собственный взгляд рецензента на "развитие" этого герба, написана ярким образным языком. Чего стоят одни только критические замечания по поводу проектов рижского герба, обсуждавшихся в начале XX века: "Откормленный лев в воротах с красной тряпкой в пасти [вместо языка - В.П.], кажется, сошёл с Ноева ковчега", "двуглавые орлы с клювами попугаев и миндалевидными глазами" и т.п. Не жалеет яда рецензент и в адрес самого К.Меттига: "Можно отметить, что автор занимается историческими смежными науками, сфрагистикой и геральдикой, лишь между делом, что он мало знаком с геральдической терминологией и с литературой по данному вопросу, короче говоря, не имеет прочной основы под ногами в этой области", "Кто не может увидеть эти бросающиеся в глаза различия [между шведской королевской и российской императорской коронами - В.П.], тому лучше не заниматься геральдическими проектами вообще". Рецензент действительно показывает значительную осведомлённость в вопросах геральдики, в частности, городской - и немецкой, и лифляндской; и со многими его выводами можно согласиться (но не со всеми). Скорее всего, за этими инициалами (A.v.R.) скрывается барон Александр ф.Раден (A.v.Rahden-Maihof), председатель Генеалогического Общества Остзейских провинций, почётный член Итальянской Академии геральдики в Пизе. Его геральдические познания видны каждый раз, когда он критикует любое положение (утверждение) К.Меттига. А социальное положение и место председателя Генеалогического Общества, по-видимому, позволяло ему не церемониться в выражениях по отношению к автору. Справедливости ради, надо сказать, что и сам К. Меттиг, выступая от имени "Общества истории и археологии русских остзейских провинций", общества, которое приложило много усилий для организации геральдической выставки в Митаве (см.примечание 1), в одной из своих статей признавал: "Однако генеалогия, геральдика и сфрагистика не относятся к области, которая охватывает круг нашего внимания и исследования, а секция литературы и искусства нашего общества не стремиться подготовить научную основу для исторического исследования этих областей..." (см.: Mettig-4, S. 128). Следует отметить, что рецензия, о которой идёт речь, - единственная работа фон Радена не только о рижском гербе, но и о городских гербах Лифляндии вообще; основной областью его интересов являлись родовые дворянские гербы. Тем не менее, его взгляды на историю развития рижского герба были настолько обоснованны и убедительны для своего времени, что основные тезисы, сформулированные в данной рецензии, вошли в доклад, представленный в 1910 г. Рижской городской Думе "О восстановлении старого герба городу Риге" (см.: РГИА-1, л. 2-8)
27 После смерти Альберта (I) Буксгевдена в 1229 г. бременский архиепископ, считая себя митрополитом Ливонии (т.к. первые епископы - Мейнгард, Бертольд, Альберт были посвящены в сан в Бремене), назначил ливонским епископом каноника бременской церкви Альберта Зюрбера. Но рижский соборный капитул избрал на это место священника из Магдебурга - Николая, который был утверждён папой в 1231 г. А. Зюрберу пришлось уехать из Ливонии. В борьбе за рижскую кафедру он добился посвящения в сан архиепископа ливонского и прусского (в 1245 г.), а также заверения, что возглавит ливонскую церковь после смерти епископа Николая, что и произошло в 1253 г. В 1255 г. папа утвердил А. Зюрбера в сане архиепископа рижского. Его последователи также были архиепископами рижскими (см.: Арбузов, с.34, 39-40).
28 Goetze, Taf. II, #7; Brieflade, Taf. 22, #3, 4 und S.97-98; Manteuffel, S. 12/13. Рис.4 дан по изданию Г.Мантейфеля. Документы, скреплённые такой печатью, датируются годами: 1251 (Гёце), 1255 (Мантейфель), 1251, 1254, 1256 и 1269 гг. (Brieflade). Таким образом, будучи уже архиепископом рижским, А. Зюрбер пользовался печатью, на которой именовался архиепископом прусским.
29 Климанов, с.112, #114. На этой печати патриарх правой поднятой рукой благословляет верующих, а в левой держит перед собой наискось посох, увенчанный крестом.
30 A. v. R., S. 276.
31 Высказанное выше (см. примечание 9) предположение об отсутствии папского утверждения ордена меченосцев косвенно подтверждается тем фактом, что ни в булле 1204 г., ни в буле 1210 г. - не говорится об описании орденского знака. О том, что Иннокентий III дал меченосцам "знак для ношения на одежде - меч и крест" мы узнаём только со слов Генриха Латвийского (но указания на цвета этих знаков отсутствуют), в то время как папские решения о присвоении тамплиерам, или госпитальерам, или тевтонцам характерных знаков (например, красного креста на белом поле, или белого креста на чёрном поле, или чёрного креста на белом поле) - известны. В связи с этим интересно отметить, что, по мнению исследователей "Ливонской хроники", главная часть её написана не ранее конца 1225 г.; точнее, большая часть её появилась в конце этого года, а события 1226-1227 гг. приписывались позже, но по свежим следам. А ведь именно к этому времени (1225-1226 гг.) относятся известные печати меченосцев, содержащие изображения креста и меча (см.: Brieflade, Taf. 5, #1; Neue Nord. Misc., St. 17, S. 254. Рисунки обоих вариантов печатей приведены, в частности, в моей статье в "Гербоведе" #49 (11,2000), с.84, рис.2а и 2б). Не исключено, что сведения об упомянутых "знаках для ношения на одежде - мече и кресте", как данных папой Иннокентием III, появились в "Хронике" Генриха Латвийского уже после широкого использования печатей меченосцев. Следует отметить, что "прижизненные" изображения рыцарей этого ордена не известны, т.е. отсутствуют надгробные плиты, настенные фрески, рисунки и прочие памятники культуры, на которых можно было бы видеть одеяния меченосцев. А ведь именно по изображениям на таких памятниках судят о внешнем виде и эмблематике рыцарей практически всех орденов, в том числе и тамплиеров, госпитальеров, тевтонцев, ливонцев... Кстати, такие термины как "меченосцы", "орден меченосцев" в "Ливонской хронике" отсутствуют, хотя события, завершающие её, относятся к 1227 г. По поводу даты смерти её автора высказывались различные предположения - от 1229 до 1259 (см.: Генрих Латвийский, с. 15, 18); в любом случае, во время возможного последнего редактирования "Хроники" (ранняя дата - 1229 г.) термин "меченосцы" в ней так и не появился. В то же время западные исследователи практически не упоминают этот орден под "официальным" названием - "братство воинства Христова", а используют только термин "меченосцы". Что касается изображения знака ордена на плащах, то немецкие и французские историки приписывали ему совершенно произвольные формы, например, в виде двух перекрещенных красных мечей остриями вниз (см.: Helyot, S. 180/181, Fig. 49; Rudolphi-2, [Part 2] S. 104 и другие), или с добавлением вверху золотой цепочки, связывающей рукояти мечей (см.: Perrot, p. 267 et pl. XXXVIII, #25). Ф. Бунге, специально исследовавший этот вопрос, говорит о существовании не менее семи (!) основных композиций, которые различные авторы "помещали" на белых плащах меченосцев. Эти композиции отличались и самими знаками (меч и крест, меч и звезда, меч или два меча, крест, крест и звезда), и их взаимным расположением, и цветовым исполнением (см.: Bunge-2, S. 90-98). Уже один этот факт говорит об отсутствии чёткого представления у историков об "опознавательном" знаке меченосцев. В настоящее время предполагается, что этот знак на их плащах соответствовал изображению на их печати (например, см.: Brockhaus Enzyklopдdie, Bd. 17, S. 190, "Schwertbrьderorden"). Но на каком основании? Ведь изображения на печатях тамплиеров, госпитальеров, тевтонцев в XII-XIII веках никак не были связаны со знаками, представленными на их плащах и щитах.
Таким образом, складывается впечатление, что орден меченосцев (или "братство воинства Христова") официально папой не утверждался, т.к. инициатором создания его был местный епископ. Соответственно, привилегиями, которыми наделялись ордена тамплиеров, госпитальеров, тевтонцев и др., этот "местный" орден не обладал. Вряд ли был у этого ордена и официально утверждённый знак для ношения на плаще, что выделяло перечисленные выше ордена. Достоверное известие о "знаке" меченосцев (но знаке, изображённым на орденской печати!) относится лишь к 20-м годам XIII в.; т.е. этот знак появился спустя почти 20 лет после организации ордена и просуществовал менее половины срока, отмеренного историей меченосцам. Может быть, наличие меча на печати "братства воинства Христова" и вызвало к жизни название ордена меченосцев. Вместе с тем, отсутствие у исследователей чёткого представления о знаке этого ордена, который должен быть помещён на плаще, заставляют предположить, что этот знак историки прежних времён "выводили" из неофициального названия ордена, причём, происходило это в значительно более позднее время, когда в состав орденских гербов уже входили кресты, изображавшиеся на плащах соответствующих орденов.
32 Генрих Латвийский, с. 66, 253.
33 Bruiningk-2, S. 22-23.
34 Одним из распространённых заблуждений позднего времени (с XVI и вплоть до XX вв.) является попытка "закрепить" за какой-либо средневековой организацией (орденом, обществом, союзом, землячеством и т.д.) в качестве символа (переходящего затем в герб) крест определённой конфигурации. Процесс такого "закрепления", "монополизации" креста конкретной формы за одной единственной организацией наблюдается как раз примерно с XVI в. В XII-XIII вв. форме креста особенного значения не придавали. Если на флагах времён первого крестового похода были представлены только прямые ("балочные") кресты красного цвета, то впоследствии использовались кресты самых разнообразных форм. В частности, тамплиеры носили, как правило, симметричные кресты с заметно расширяющимися концами (так называемый "лапчатый" крест, в настоящее время воспринимающийся как немецкий). Но точно такие же кресты можно видеть на монетах государств крестоносцев - в Иерусалимском королевстве, в княжестве Антиохии и др. (см.: Schlumberger, Planch. III et IV). Другие примеры использования "лапчатого" креста в средневековых западноевропейских печатях приводил А.ф.Раден (см.: A.v.R., S. 276, Anm. 13). Более того, аналогичные кресты (иногда с отверстием в центре) встречаются на православных иконах, в частности, на омофорах святителей; по русской терминологии, они называются "корсунскими" крестами. Не менее интересным примером является наличие на средневековых печатях и монетах госпитальеров "патриаршего" (шестиконечного) креста; великий магистр изображён стоящим на коленях перед ним. А ведь такой крест более характерен для восточной церкви, в симпатиях к которой госпитальеров трудно заподозрить. Правда, некоторые исследователи называют его - "лотарингским" (см.: Климанов, с. 250), но тем не менее, он чаще используется в символике восточного христианства, а не западного. Настоящим знаком отличия тамплиеры (и рыцари первых орденов) считали не крест и его форму, а цвет плаща; кстати, красный крест на плащах тамплиеров появился на 20-25 лет позже, чем сами белые плащи. Разделяя мнение рыцарей этого ордена о важности цвета одеяния, госпитальеры выбрали для себя чёрный цвет для мирного времени и красный - на период военных действий. Когда немецкие рыцари стали носить плащи белого цвета, тамплиеры заявили такой решительный протест, что папе пришлось запретить тевтонцам носить такие плащи; и лишь позднее этот запрет был снят.
35 Так, по сообщению хрониста Матвея Парижского, в 1241 г. тамплиеры подвергли длительной осаде приорства госпитальеров в Акре, а тевтонцев выгнали из города (см.: Барбер, с. 430).
36 История крестовых походов, с. 222.
37 РГИА-1, л. 4.
38 Не исключена, в принципе, и другая трактовка подобного креста. Если отсутствует граница между нижней вертикальной частью креста и его "древком" (граница, обозначенная точкой, расширением и т.п.), иначе говоря, если горизонтальная перекладина значительно смещена к верхней части креста, и особенно, если масштаб его трудно представить - выше человека этот крест или нет, то такой крест называется не "процессионным", а "латинским" или "крестом Святого Петра", хотя в процессиях использовали и такой крест. Однако, в данном случае, (т.е. на рижской печати) ясно изображён "лапчатый" крест на древке или шесте; таким образом, он является именно "процессионным" крестом.
39 Neumann, S. 5.
40 Siebm. Wpb.-1, Taf. 23 u. S. 13; также выглядит и современный герб, см.: Brockhaus Enzykl. Bd. 6 (1969) S. 101.
41 Seyler-2, S. 307.
42 Seyler-1, S. 691.
43 Siebm. Wpb.-1, Taf. 34 u. S. 18; также выглядит и современный герб, см.: Brockhaus Enzykl. Bd. 3 (1967) S. 246.
44 Siebm. Wpb.-1, Taf. 163, S. 132.
45 Siebm. Wpb.-2, S. 88.
46 Там же, табл. 193 и с. 115.
47 Там же, таб. 147. Не исключено, что путаница с сопоставлением рижского и бременского гербов имеет следующее происхождение. В середине XVIII века Г.Арндт также сравнивал рижский герб с бременским, но во-первых, он говорил о малом рижском гербе, появившимся во второй половине XIV в, во-вторых, он подчёркивал, что речь идёт о гербе бременского архиепископства, а не города, и, наконец, он не утверждал, что первая эмблема заимствована из второй, а лишь обращал внимание на их сходство (см. примечание 17). Последующие поколения историков часто пользовались сведениями, приведёнными у Г. Арндта, в прочем, не всегда ссылаясь на него. Видимо, наличие ключей в первой рижской печати, указание Г. Арндта на сходство изображений, о которых идёт речь, а главное, твёрдая уверенность некоторых исследователей в том, что культура и развитие восточных немецких провинций являются лишь производными этих категорий западных регионов - и заставили этих историков предположить, что первая рижская печать является "подражанием городскому гербу города Бремена".
48 Gritzner, S. 116-117 (подстрочное примечание 1). Бременское герцогство унаследовало герб от одноименного архиепископства, поэтому изображение на щите у обеих территориальных структур одинаково. М. Грицнер также считал истинным гербом архиепископства Бременского два перекрещенных ключа (без креста). Как и Г. Зейлер, он называл изображение в гербовнике Шрота 1576 г. ошибкой и предполагал, что приведённый там бременский герб был перепутан с рижским гербом, т.к. эти два города издавна были связаны между собой. По мнению М.Грицнера, эту ошибку можно было исправить во время составления прусского королевского герба (утверждённого в 1817 г.). Ответственность за сохранение и узаконивание этой ошибки М. Грицнер возлагал на графа Штильфрида (автора композиции прусского герба), который, в свою очередь, с одной стороны, ссылался на гербовник Шрота, а с другой, - мотивировал наличие креста в гербе Бременского герцогства тем, что иначе нельзя было бы отличить этот герб от герба города Минден, также имевшего в качестве эмблемы два перекрещенных ключа и входившего в состав прусского герба.
49 По Вестфальскому миру (1648 г.) архиепископство Бременское вошло в виде герцогства в состав шведских владений. Отвоёванное в ходе Северной войны герцогство датчане продали Ганноверу (1715 г.).
50 Более того, следует отметить, что даже такой распространённый символ независимости города как крепостная стена, на городских печатях, появившихся до первой рижской печати, встречается крайне редко, например, на печати города Шпейер 1207 г., да и то в ряде источников эта крепость описывается как церковь (см.: Rudolphi-2, [Part 2] Taf. V und S. 53-65). В большинстве случаев на городских печатях были представлены или религиозные символы (как правило, гербы епископств), или "говорящие" (например, в печати Берна 1224 г. - медведь), или изображения, характерные для ранней геральдики (в печати Цюриха 1225 г. щит, судя по штриховке, бело-голубой, а в печати Фрайбурга - чёрно-белый) (там же). Но со второй половины - конца XIII столетия крепостная стена с башнями или городские ворота становятся на печатях городов распространённым явлением. Их можно видеть на упоминавшейся уже печати Гамбурга 1241 г., или, например, на печатях Бонна 1260 г, Мюнстерберга 1283 г., Бреслау 1283 г. (см.: Hauptmann, S. 119-121) и многих других. Для справки стоит подчеркнуть, что рижская печать появилась одновременно с печатями городов Базеля, Цюриха и существенно раньше печатей многих старонемецких городов, таких как Любек (1230), Аугсбург (1237), Мюнхен (1239), Нюрнберг (1243) (см.: Seyler-2, S. 307).
51 Brieflade, Taf. 20, #21; Napiersky-1, Th. II, S. 371.
52 Napiersky-1, Th. II, S. 371.
53 Некоторые геральдисты различали эти два креста, но изображения их не отличались устойчивостью. Так, П.Ф.Винклер представлял "патриарший" крест в виде наиболее распространённого у православных русских восьмиконечного креста, у которого нижняя поперечная перекладина укорочена и скошена, а "лотарингский" - в виде шестиконечного креста (см.: Брокгауз и Ефрон, т. 32, таблица на с. 655/657). В "Новом энциклопедическом словаре" крестом "патриаршим" назван шестиконечный (тот, который у П.Ф.Винклера - "лотарингский") (см.: т.23, ст.228/229, #17) . Во французском "Геральдическом словаре" "патриарший" крест представлен шестиконечным, но вторая сверху, более длинная перекладина имеет как бы "отросток", свисающий отвесно вниз (см.: Grandmaison, pl. C, p.1127-1128). "Лотарингский" крест изображался более стабильно - шестиконечным, но и у него были варианты: или две поперечные перекладины были смещены ближе к верху, и нижняя была длиннее верхней (см.: Брокгауз и Ефрон, там же), или они были одинаковой длины, и нижняя значительно смещена к основанию вертикальной перекладины (см.: Grandmaison, там же). Часто между ними различий не делали, и оба типа представляли в виде шестиконечного креста, у которого две поперечные перекладины были смещены ближе к верху, и нижняя была длиннее верхней. Например, Г.Шлюмбергер называл "патриаршим" крест, пред которым коленопреклоненным изображался Великий магистр госпитальеров на монетах этого ордена (см.: Schlumberger, pl. XIX) и его печатях (см.: Климанов, с.252-256, ##52-56). Другие исследователи считали "патриаршим" или "лотарингским" Т-образный крест, к которому добавлена вторая, более длинная поперечная перекладина (см.: Stockbauer, S. 123).
54 История Латвии, с. 57 (1226); Bergmann, S. 7. Последнее издание содержит иллюстрации городских гербов, воспроизведённых автором на основе изображений соответствующих печатей, но без ссылок на их источник. О том, что это издание "снабжено рисунками Бротце", писал Л.Арбузов (см.: Арбузов, с. 241). Следует отметить, что первую часть первого тома рукописи "Sylloge..." И.Бротце подготовил в 1786 г. (см.: Библиотеке-450, с. 118), а работа Г. Бергмана вышла на 10 лет раньше, в 1776 г. Но возможно, И. Бротце передал ему копии некоторых рисунков до компоновки своей рукописи; известно, что интерес к истории Лифляндии И. Бротце проявил сразу же после появления в Риге в 1768 г. в качестве гувернёра в семье члена магистрата Фегезака, также интересовавшегося историей Лифляндии. Кстати, иллюстрации в работе Г. Бергмана представляют (по ошибке) не сами гербы, а их зеркальные отображения, т.е. как бы матрицы; но поскольку изображения рижских гербов симметричны, на этих иллюстрациях указанная ошибка не заметна. В учебнике по истории Латвии (откуда приведён рис. 1б) можно видеть уже сами печати, но также нет ссылок на источник, хотя скорее всего, им является труд И. Бротце.
55 Например, A. v. R., S. 275.
56 Фотография этой грамоты с печатями приведена, например, в работе К. Меттига (см.: Mettig-1, S. 30/31). Здесь же приведена и фотография оттиска городской печати 1226 г. (S. 10). Фотографический снимок с акта, датированного декабрём 1225 г., с привешенной печатью города можно видеть в архивных материалах (см.: РГИА-1, Приложение IV).
57 A. v. R., S. 277.
58 Так, К. Напьерски ссылался на своих предшественников И. Бротце и И. Рекке, указывавших на примеры использования этой печати на документах 1298 г. (может быть несохранившихся?), но в его сборнике самый поздний документ, скреплённый такой печатью, относится к 1262 г. (см.: Napiersky-1, Th. II. S. 371) При описании этой печати автор не уточнил, какой крест там приведён - "епископский", "лапчатый" или "патриарший" (см.: Napiersky, Th. I. #178). К сожалению, более подробное исследование по использованию этой печати провести не удаётся, т.к. труды известных собирателей изображений прибалтийских печатей и гербов - И. Бротце (в частности, двухтомник Sylloge diplomatum Livoniam illustrantium) и И. Рекке (двух-томник Sammlung alter livlдndischer Urkunden) остаются неопубликованными и сохраняются в архивах.
59 Brieflade, S. 10; A. v. R., S. 276, Anm. 12.
60 Документы, скреплённые такой печатью, И. Захсендаль уверенно датирует 1224 и 1225 г.г, а годы 1221 и 1227 оставляет под вопросом (см.: Brieflade, S. 96).
61 Nord. Miscell., S. 36. Подобные знаки-подписи были широко распространены в средние века. Несколько таких знаков, принадлежавших различным королям можно видеть в трудах О. Егера (см.: Егер, с. 127, 151, 228) или Рудольфи (см.: Rudolphi-I, S. 27, или Rudolphi-II [Part. I] S. 27).
62 На печатях Альберта Буксгевдена, Иоганна I (1273-1284) и Иоганна II (1285-1294) - "пастораль" и благословение; на печати Николая (1229-1253) - "пастораль" и евангелие; начиная с 1295 г. и до последнего рижского архиепископа (умер в 1563 г.) иерарх на печати в левой руке держал посох-крест, а правой благословлял верующих (см.: Brieflade, Taf. 22-26).
63 Начиная с первых известных печатей архиепископов - зальцбургских, относящихся к началу - середине XI века, на немецких епископских печатях изображается сидящий или стоящий иерарх, который держит в правой руке посох с загнутым навершием, а в левой - книгу, т.е.евангелие (см.: Seyler-2, Fig. 14, 15, 146, 147, 148). Печати и гербы немецких епископств приведены в гербовнике Зибмахера (см.: Siebm. Wpb.-2). Анализ изображений этого собрания показывает, что основным (и практически единственным) символом епископской власти в Германии в то время был епископский посох с загнутым навершием. В качестве украшения, находящегося за щитом, перекрещенные епископский посох и посох-крест (или просто удлинённый латинский крест) использовались с конца XIV века, например в архиепископстве Трирском (там же, табл. 90 и с. 59). На первых печатях и гербах епископств Мейссенского и Регенсбургского в качестве такого украшения использовались перекрещенные епископский посох и меч (там же, табл. 7, 8 и с. 3, 4). В то же время на печатях, использовавшихся на территории государств крестоносцев в Святой Земле, посох-крест встречается довольно часто. Кроме уже упоминавшейся печати Аймерика, который был патриархом Антиохии в 1142-1187 гг. (см. примечание 29), можно привести печать Эмери I, короля Иерусалимского, правившего в 1162-1173 гг. (см.: Егер, с. 326). На ней изображён король, держащий в левой руке "державу" (шар с крестом), а в правой - посох-крест. Европейские государи в этой руке держали скипетр. Использование посоха-креста представляется логичным для печатей властителей региона, завоевание которого начиналось с паломничества, одним из символов которого и был посох-крест (другим - пальмовая ветвь).
64 Так, в "Геральдическом словаре" 1874 г. можно прочитать, что как знак пастырской власти и церковной юрисдикции епископский посох (une crosse) представляет собой обычный "посох серебряного или золотого цвета, изогнутый, украшенный виньетками в верхней части закругления". В качестве украшения, располагающегося слева за гербовым щитом церковного деятеля (а справа над щитом находится митра), этот посох должен быть повёрнут незамкнутым кольцом наружу в гербе епископа или архиепископа и вовнутрь - в гербе настоятеля монастыря, т.к. юрисдикция последнего распространяется только на конкретный монастырь (см.: Gastelier, p. 130). Посох именно с загнутым навершием считал символом епископа и историк античного христианства Мартиньи (см.: Martigny, art. "eveque").
65 Brieflade, Taf. 22, #5, Taf. 23, #6.
66 Там же, табл. 23, #8. Эта печать относится к 1297 г. (там же, с. 99).
67 Там же, табл. 15, #55, 56 и с. 69.
68 Рига, с. 332; Mettig-3, S. 112.
69 Napiersky-2, S. 126, [Th.] 11 (CLXVI).
70 Mettig-3, S. 112.
71 Napiersky-2, S. 198, ? 14.
72 Mettig-3, S. 112; Bunge-1, S. 80-81.
73 Mettig-3, S. 112/113, #1.
74 Ganz, S. 25, Fig. 14.
75 Рига, с. 332-333.
76 Советские исследователи считали, что такой флаг использовался до 80-х годов XVI века, т.е. вплоть до подчинения города Польше во времена Стефана Батория, но документов, подтверждающих это не приводили (см.: История Латвийской ССР, с. 133). Вероятно, такой вывод сделан на основании того, что в это время появляется флаг с другим изображением.
77 Приводя выписки из рукописных рижских книг за 1347-1384 гг. Г. Гильдебранд под рубрикой "Index historicus ex libro missivarum senatus antique incnpiente de anno 1347" приводит следующее сообщение: "Anno Christi 1347. Senatus librum confici curavit pro conseribendis literis ad exteros hoc anno ac novo sigillo uti coepit". (см.: Hildebrand, S. 98).
78 Mettig-2, S. 129; A. v. R., S. 277. Уверенность историков в этом была настолько велика, что в ряде случаев под рисунком, изображающим печать 1349 г., стоит пояснение, в соответствии с которым печать относится к 1347 г..
79 Mettig-2, #2. Отличающуюся незначительными деталями прорисовку этой печати можно видеть в Brieflade, Taf. 20, #22 u. S. 91. Фотографическое изображение её приведено в работах К. Меттига и В. Ноймана (см.: Mettig-1, S. 67; Neumann, S. 5, Fig.11). В некоторых работах К. Меттиг говорит, что на печати видна "передняя часть льва" (см.: Mettig-2, S. 129; Mettig-4, S. 130), однако в действительности речь идёт о голове и передних лапах, точнее, о когтях на них.
80 Материал, представленный Ф.Гадебушем, был положен в основу доклада рижского магистрата Правлению рижского наместничества от 6 февраля 1785 г. об истории рижского городского герба (см.: РГИА, фонд 1343, опись 15, дело 180, Приложение III, лист 17) и впоследствии представлен этим Правлением в Геральдическую Контору Санкт-Петербурга по её запросу для составления и официального утверждения городских гербов. Действительно, в соответствии с присланными из губернии (тогда ещё - из наместничества) материалами, т.е. рисунками и описаниями, в рижском гербе, утверждённым 4 октября 1788 г., на крепостной стене зубцы отсутствуют (см.: ПСЗ-1, описание - т. XXII, #16716, изображение - Книга чертежей и рисунков. Рисунки гербам городов. СПб, 1843; Винклер, с. XVIII и с.127).
81 Рисунок взят из работы: История Латвии, с. 57 (1349). Как и в случае с первой печатью, источник её не указывается.
82 Интересно отметить, что в наиболее полном своде печатей и монет Прибалтийского края орденского периода - Brieflade, Th. IV, изданном в 1887 г., прорисовка первой городской печати Риги, отнесённой к 1226 г. и представленной у меня на рис. 1а, приведена со ссылкой на И.Бротце (т. 1, л.5); второй вариант, известный только по И.Бротце (т.2, л.265) и представленный у меня на рис.1б, не приведён и не упоминается. Прорисовка втор
Оставьте свой комментарий и поделитесь с ним с друзьями во ВКонтакте.
Рижский герб (к 800-летию Риги) [примечания]
Обсуждение – комментарии, дополнения, новости
Еще никто не написал никаких коментариев. Вы можете стать инициатором обсуждения!
Источники: Журнал "Гербоведъ", #60, стр.4-47
По всем вопросам, связанным с проектом Геральдика.ру, пишите, пожалуйста, на адрес support@geraldika.ru или можно оставить комментарий прямо на самой странице. |

 › Векторные изображения гербов, флагов и эмблем
› Векторные изображения гербов, флагов и эмблем ›
›  Обсудить ▼
Обсудить ▼