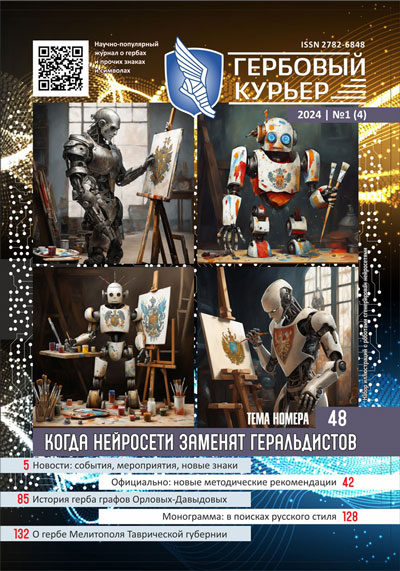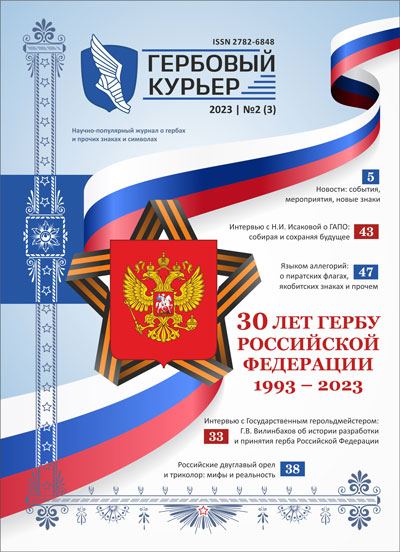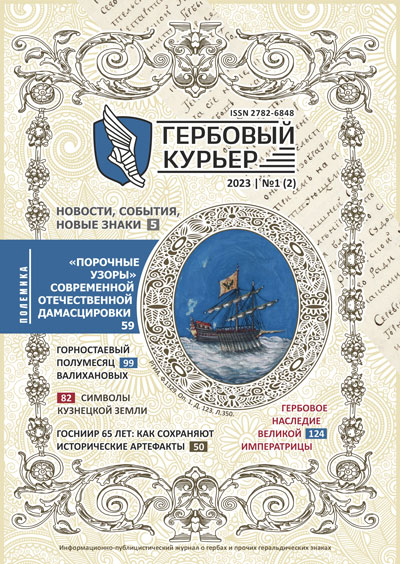Геральдика за семиотикой и символогией
04.06.2001
/ Евгений Груздов
 Об авторе: Груздов Евгений Владимирович, ассистент кафедры ТИМК ОмГУ,
(Статья была напечатана в журнале Культурологические исследования в Сибири. Омск, Изд-во Омского пед. унив., 2000. 1. с 44-53.)
Какой он из себя герб знают все: гербы окружают нас со всех сторон, и они разные. Само присутствие герба в нашей жизни, а не только в исторических источниках, говорит о том, что геральдика - дисциплина изучающая гербы - есть не только вспомогательная историческая дисциплина, но и "отрасль прикладного знания" [1]. Термин "геральдика" употребляется еще и в другом значении: система, в которую организуются гербы (именно это значение слова мы и будем использовать в дальнейшем, а науку геральдику и геральдическую практику будем называть "гербоведением" и "герботворчеством"). Поэтому на вопрос: что такое герб, не ответишь, просто махнув рукой в сторону проезжающего автобуса, на боку которого герб и красуется. И историческое гербоведение, и герботворчество пытаются ответить на этот вопрос, который можно задать и иначе: что такое геральдика. Вот вариант, предложенный гербоведами, для которых геральдика - вспомогательная историческая дисциплина: "Гербами называются особые фигуры или символические изображения - эмблемы, составленные на основании точно определенных правил и служащие постоянным отличительным знаком отдельного лица, рода, общества, учреждения, города, области и целого государства" [2]. А вот вариант от "практикующих" гербоведов, в качестве таковых взяты издатели и авторы книги "Дворянские роды Российской империи" [3]: "Гербами называют графические знаки - символы, эмблемы отдельных лиц, семей, родов, корпораций, территорий и государств, составленные по определенным правилам" [4]. Выделим общие моменты этих определений: 1. Правила; 2. Символ; 3. Знак; 4. Эмблема; 5. Набор обладателей герба. Но есть еще одно общее место, уже не в определении, но в отношении к ним. И в том и другом случае данное определение оказывается совершенно достаточным. Для них выглядит совершенно понятным, что такое знак, что такое символ и что такое эмблема. Насколько это не так становится понятным, если обратиться к тем наукам, которые занимаются изучением этих феноменов. Справедливости ради необходимо отметить, что попытки выхода на общегуманитарную проблематику осуществлялись, и именно этими исследователями были предложены самые существенные варианты ответов на вопрос: что такое геральдика [5].
Обратимся к опыту тех наук, для которых проблемы символа, знака и эмблемы - есть центральные проблемы. Изучение эмблем - "предмет эмбелематики, специальной дисциплины на стыке истории, искусствоведения, психологии" [6]. Герб и эмблема феномены соразмерные друг другу в их материальности: графический - изобразительный характер бытования герба и эмблемы [7] объединяет их и в одинаковой степени ставит их в иерархическую оппозицию к знаку и символу, то есть сказать, что герб - это эмблема, означает опять отослать нас к символу и знаку.
Знак. "Проблема знака - центральная проблема семиотики" [8]. "Срединное положение семиотики среди ряда наук и то, что семиотика - наиболее оформленная часть современных системно - структурных исследований, составляет её аналогию с философией" [9]. Символ же напрямую связан с проблемами философии: "При ближайшем рассмотрении оказывается, что символ (брать ли его именно в этой терминологической оболочке как "символ", брать ли его как понятие, выраженное другими словами, или совокупностью слов) есть одно из центральных понятий философии и эстетики, и требует чрезвычайно кропотливого исследования" [10]. Для нас важно отметить такие моменты, что, во-первых, для философии ни понятие символа, ни понятие знака не есть нечто само собой разумеющееся, в том смысле, что все то, что об этом можно сказать, уже сказано. Во-вторых, и семиотика своим междисциплинарным характером, и философия в своей фундаментальности предполагают необходимость выхода на проблематику других дисциплин. Но мы не встретим геральдических работ, которые бы отрабатывали данные подходы. Данная статья и есть попытка проговорить, что такое геральдика, проговорив, что такое знак и символ.
В отличие от эмблемы, которая, как было сказано, соразмерна гербу, знак и символ предстают как феномены предельного порядка: "Возможно, о культуре вообще может идти речь только тогда, когда налицо использование и символа, и знака" [11]. Эти два понятия не только соразмерны друг другу, но, и опосредованы друг другом. Первое с чем приходится столкнуться исследователю, заинтересовавшемуся символом и знаком, это то, что и сами эти понятия не определены, а еще и отношения между ними оказываются совершенно неопределенными. Вся совокупность позиций на этот счет располагается между двух крайних вариантов. Первый полюс спектра - это то, где "символ" и "знак" слова синонимы для обозначения одного феномена: "В искусственных формализованных языках [символ] - понятие, тождественное знаку" [12]. Второй полюс спектра - это то, где символ и знак принципиально отличны друг от друга и обретают своё содержание в оппозиции друг к другу: "Сложный дихотомичный характер понятия С.[имвол] в культуре раскрывается в его отношении к знаку" [13]. Большинство концепций располагается между этими полюсами, в том смысле, что ими признается отличие символа от знака, но знак выступает своеобразным фоном, отталкиваясь от которого становится возможным сказать, что есть символ [14]. Общим местом для таких позиций - "символ на фоне знака" - оказывается проговаривание многозначности как субстанционального атрибута символа.
В некотором смысле, гуманитаристика испытывает дефицит в другой позиции, где символу символово, а знаку знаково. Встать на такую позицию и держать её осмелились в соавторстве два философа Мераб Константинович Мамардашвили и Александр Моисеевич Пятигорский, что уже сейчас дает право назвать их труд "фундаментальной монографией" [15], и так его оценить: "…написать текст сложнее текста этой книги нельзя, потому что сложнее текста этой книги не бывает, не может быть, ибо он (текст) инкорпорировал все возможные рефлексивные подступы к нему" [16]. Геральдика и оказывается своеобразным способом прочтения данного текста. Ничего с этим текстом не может произойти без того, чтобы произойти иначе, а это всякий раз предполагает полную ответственность вновь говорящего.
С самого начала в своеобразном вступлении "От авторов" мыслители четко проговаривают свою позицию, а точнее оппозицию семиотике: "Дело в том, что почти всякий нормальный семиотик полагает (или должен полагать), что почти всякое явление можно рассматривать как знак какого-то другого явления. В этом мы с семиотикой согласны ровно наполовину, то есть мы охотно допускаем правомерность такой интенции семиотиков, правомерность их склонности рассматривать мир явлений именно таким образом, а не каким-либо иным. Однако нас отвращает подчеркнутая эпистемологичность такого рассмотрения, ибо нам очень хотелось бы понять: нечто может рассматриваться только как символ или оно также может быть символом? Отсюда первый вопрос Темы: "Символ - Что?". Но если символ - вещь, и то, что он символизирует, - тоже вещь, то ни о какой онтологии не может быть и речи, а без онтологии тоска берет за горло, ибо что остается? - Теория описания одних вещей как того, что некоторым образом выражает состояние дел в других вещах! Тогда мы обратились к сознанию, как тому единственному нечто, что есть не-вещь, то есть что и "есть" и "есть не-вещь". В этой онтологической интенции символ "видится" (или "вспоминается") как такая странная вещь, которая одним своим концом "выступает" в мире вещей, а другим - "утопает" в действительность сознания. Отсюда второй вопрос Темы: "Символ - Чего?". После этого нам стало ясно, насколько далеко мы уехали от семиотики" [17].
Мыслители вводят термин "симвология" "как обозначение направления нашей работы, а не как подобие новой области знания (что было бы ужасно!) [18] ". Воспользуюсь этим термином для той же цели, в случае с геральдикой это будет также обозначением определенного направления работы, противоположного семиотическому, при котором символ рассматривается как вещь, которая отсылает не к другой вещи, а к сознанию.
Процитируем постулаты символогии. 1. "В своей натуральной вечности никакой символ не может прямо соотноситься с одной данной конкретной содержательностью (или структурой) сознания" [19]. 2. "...когда мы говорим, что мы понимаем или не понимаем объект в смысле его знания, то это понимание или непонимание в некотором смысле зависит от нас, а когда мы говорим, что мы не понимаем или понимаем символ в его соотнесенности с содержательностью сознания, то это зависит от самого символа" [20]. 3. "...с точки зрения метафизики сознания, символ абсолютно непроизволен в отношении структуры сознания, с которой он соотносится" [21]. 4. "Символ - это вещь, обладающая способностью индуцировать состояние сознание, через которое психика индивида включается в определенные содержания (структуры) сознания. Или так: при аккумуляции психикой индивида определенных состояний сознания символ обнаруживает способность введения психики в определенные структуры сознания" [22].
Сознание как не-вещь предстает в данной системе как субстанциональный атрибут человека в отличие от психики, которая принадлежит миру природы, которая есть вещь [23]. Метафизические синонимы сознания - это свобода и бытие. Бытие и свободу можно распространить и за пределы человека, так бытие есть атрибут всего универсума, далее и бытие и свобода не могут не мыслиться как слагаемые атрибуты Бога. А сознание в том виде, как мы его себе представляем, выглядит соразмерным человеку, задает его размер отличный от Бога, от универсума, и если мы приписываем сознание Богу или универсуму, то мы уже говорим о каком-то другом, чаще всего сверх-сознании. Ни сознание, ни бытие, ни свободу понять и зафиксировать нельзя, можно лишь оказаться в ситуации, в положении, когда то, что произошло, указывает на принципиальное участие в этом свободы, бытия, сознания. Никакой теории сознания быть не может, возможна только метатеория сознания. Наша тема человек, значит тема соотношения сознания и вещи.
Когда человек реализует свою сознательную (бытийную, свободную) способность быть человеком, итогом оказывается некоторое положение вещей в мире: 1. оно не детерменированно предыдущим состоянием вещей в мире, т.е. оно свободно; 2. оно переиначивает мир к возможности себя, т.е. оно бытийно; 3 сознание здесь не свидетель случившегося, а само случившееся. Итог такого опять-космогенеза - новый опыт сознания, выраженный в событии - поступка, знания, творения, в идеале - добра, истины, красоты.
В каком случае человек может оказаться в ситуации обретения нового опыта сознания? Только через захотеть, принадлежащее миру психики, этого не достичь, то есть сознание уже должно включиться в игру, чтобы играть. Это может произойти случайно, в этом смысле бытие именно случается. Вариант, где что-то зависит от человека, предполагает отношение сознания к уже существующему положению вещей. Это отношение может быть представлено иерархией культуры, её слоями, которые в свою очередь можно рассмотреть с различных сторон: а.- вид опыта сознания; б. - слой культуры; в. - вариант отношения между сознанием и вещами; г. - средство производства и воспроизводства данного слоя культура.
1.а. Гарантированный опыт сознания. Тот опыт, который приобретается или как бы неосознанно, или как бы непосредственно. 1.б. Культура как природа. Цель данного слоя культуры - автоматизм культурного поведения [24], при котором человек лишь подключается к существующему положению вещей в мире. 1.в. Сознание исчерпывается вещами, оно выглядит как автоматически возникающее дополнение к вещам. 1.г. Знак. Отсюда важнейшее субстанциональное определение знака - в его однозначности. Чем жестче связь одной вещи (знака) с другой вещью, тем легче осуществляется процесс передачи, усвоения и хранения готового опыта сознания. 2.а. Чужой негарантированный опыт сознания. 2.б. Культура как цивилизация. 2.в. Данному положению вещей соответствует конкретная структура сознания, но которая не вытекает автоматически из вещной составляющей.2.г. Знак и вторичные символы. Здесь уже состоявшийся порядок вещей в мире требует заново своего творения. Тут-то и сталкиваются готовые означенные пласты культуры, с символами, направленными на воспроизводство человека, способного пользоваться этими пластами. Поэтому возникает необходимость выразить тождественность человека чему-то конкретному, конкретному опыту сознания, структуре сознания, которая не выражается без остатка в порядке вещей, производимых этим опытом сознания, и потому источником которой может быть только заново свобода, то есть полная нетождественность человека себе как вещи. Но эта заново-свобода происходит в области действия вторичных символов - или псевдосимволов [25], она всегда может быть воспринята со стороны её вещности "как уже готовое функционирующее устройство, могущее быть более или менее произвольно идеологически интерпретированным" [26]. 3.а. Свой опыт сознания. 3.б. Культура как экзистенция. Тот опыт сознания, который может быть обретен каждым только самостоятельно: любовь, дружба, храбрость и другие подобные феномены. 3.в. Вещи случайны по отношению к сознанию. 3.г. Сами феномены оказываются символами, представленными вторичной символикой. 4. а. Новый опыт сознания. 4.б. Культура как антикультура. 4.в. Не существует ещё порядка вещей соответствующего данному опыту сознания. 4.г. Первичные символы. Символ принципиально направлен не на уже готовое положение вещей в мире, не на готовое знание, а на еще несостоявшееся положение вещей в мире и знание о них, то есть совсем не на вещь, а на не-вещь, на сознание, на его актуальность. Именно поэтому внешним атрибутом символа оказывается многозначность. Через символ осуществляется та самая конструкция, когда для того, чтобы что-то свободное произошло, оно уже должно произойти, чтобы опыт сознания состоялся, оно (сознание) уже должно быть актуализировано. Вот это "уже" и сворачивается в такой вещи, как символ. И это "уже" - "уже-сознание", именно поэтому, если мы не понимаем символ, то это психика - вещь - не понимает сознание - не-вещь, и это непонимание укоренено не в психике, а в уже-сознании символа, поэтому никакого понимания сознания быть не может, сознанием можно понимать (собственно, только им и можно). И подобный разрыв - непонимания - принципиальное условие. Поэтому-то символ и не сводим ни к одной конкретной содержательности сознания, а только к сознанию как таковому, следовательно, выражение "этот символ что-то символизирует" выглядит неправомерно, не что-то, а как раз "ничто" - сознание [27], которое может оказаться чем угодно, а, значит, символ символизирует себя. Таких вещей, которые принципиально содержали бы в себе уже-сознание, очень немного. Только та вещь, которая не может не мыслиться свободной, может быть первичным символом. В некотором смысле они должны быть больше свободой, чем вещью, и тогда они будут символом. Таких вещей, которые Мамардашвили и Пятигорский называют и с которыми они работают, две. Это Бог и смерть. Будучи свободными, они схожи с сознанием еще и тем, что требуют при работе с ними метатеоретического уровня. Мы не можем сказать ничего положительного ни о сознании, ни о Боге, ни о смерти. Мы можем только говорить о том, как мы об этом говорим. Бог - это начало любой свободы, это свобода нашей свободы. Смерть - это конец свободы, но свободный от нашей свободы. Это свобода нашей несвободы. Но и то, и другое - не человек, не его сознание, поэтому и то, и другое предстают как вещь, как первичный символ. Они - вещи, потому что символы для сознания, которым они не являются. Все другие - вторичные символы - в первую очередь вещи, а символами они являются лишь тогда, когда срабатывают таковыми, актуализируя сознание на новый сознательный опыт: "Скорее, это означат, что когда мы знаем, что какая-то вещь есть символ, то это значит: что-то есть в сознании, что индуцирует наше знание о символе как об этой вещи" [28].
Но как возможен такой вторичный символ? Как в какой-то реальной вещи могут быть укоренены уже-сознание, уже-свобода, уже-бытие. Здесь самое время ввести еще один - геральдический (почему это так, станет понятно в дальнейшем) - постулат символогии: если вещь может проявиться как символ, то только по отношению к сознанию, и в сознании, иначе по отношению к человеческой свободе и только из человеческой свободы, иначе - символизировать только человека. Но тогда можно говорить еще об одной вещи, близкой к первичным символам - о человеке, о личности. Но сделать символом самого себя - задача очень непростая - это и значит состояться как личность. Человек как символ должен быть тождественен свободе, то есть должна отсутствовать всякая тождественность.
Одним из важнейших опытов сознания, принадлежащих уровню цивилизации оказывается опыт социального бытия, или бытия как социального. С момента, когда человек открывает как источник своего бытия, как его форму, свою общественность, социальность это уже не только открытый в природе естественным образом укорененный порядок вещей, так с точки зрения природы мы имеем тот же самый набор - стадо, а в точности, наоборот - из свободы изобретенный опыт сознания. Как только социальность открывается-изобретается как проявление свободы, как следствие сознательного опыта, так она, с одной стороны, оказывается источником другого опыта сознания - развития общества, с другой стороны - входит в регистр негарантированности, то есть такого опыта, который необходимо всякий раз заново воспроизводить. Инструментом такого держания сознательного опыта может быть только символ. Сама же процедура - есть процедура идентификации, поначалу внутренней идентификации, как противопоставление всему остальному миру, открытие своей общности как общности именно людей, носителей свободы, сознания. Такой символ предстает в двух ипостасях: как имя собственное [29] и как геральдическая форма. И в том, и в другом случае мы имеем дело с вещностью. Они - эти формы символа - могут восходить и к одной вещи. Вещь же должна указывать на что-то такое, что или сама есть свобода, сознание, или есть условие свободы, сознания, или есть следствие свободы, сознания. Но, на данном этапе развития общества, более значимым оказывается сам факт существования, бытийный аспект, поэтому таким символом оказывается вещь, обеспечивающая существование, то есть сознание и свобода включены в такой символ только фактом того, что символизация состоялась. Тотем - первопредок [30], земля, вода, солнце, лес, их выразителями на данном этапе может быть и только цвет, и многое другое, есть символы первичного бытия, но они все указывают на бытие именно человека, так как только человек оказывается способен сделать их инструментом держания сознательного опыта, оказывается способен воспроизводить тождественность в себе, которая не гарантирована. Такого рода символика до сих пор актуальна для предельных первичных социальных образований: государств, этносов, наций. Бесспорно, то, что на данном этапе развития культуры оказывается, открыт и востребован и другой - не социальный опыт сознания, который необходимо постоянно воспроизводить и для этих целей культура вырабатывает соответствующие символы.
Социальная структура общества усложняется, отношение власти и собственности внутри сообществ, отношения между сообществами требуют своей проекции на уровень сознания. С этого момента идентификация перестает быть направленной только вовнутрь, для себя, и оказывается сообщением о себе другим. Имя собственное перестает быть тайной для окружающих, геральдическая форма должна быть понятна и другим. Наравне с именем собственным - символом - внешняя сторона начинает пользоваться кличкой, которая уже только знак. Точно также и знаки собственности, и знаки власти могут быть только сообщением для других, в этом смысле только знаком, обретая свою произвольную, которую не терпит символ, форму. То есть, внешний, гарантированный характер человека в социальной структуре предопределяет появление знака как составной части геральдической формы. А под геральдической формой следует понимать особый инструмент социальной идентификации, то есть только то социальное положение может иметь значение, которое может и должно быть означено. Человек как та или иная социальная вещь получает знак. Но, кроме того, что общество оказывается устроенным как-то, то есть, предопределено определенным порядком вещей, этот порядок всегда держится конкретным человеком, укореняется в его сознании, в его свободе. Таким образом, для конкретного человека может быть естественным, что есть тот или иной социальный статус, та или иная социальная группа, но совсем неестественно его положение как того, кто занимает этот статус, его как того, кто принадлежит к этой социальной группе. В этом смысле не естественно и его отношение к этому как к "не естественному" (данное обстоятельство делает возможным превращение вторичной символики в псевдосимволы идеологии). Чтобы быть таким, необходимо проявить себя как человека, реализовать свою свободу, обрести соответствующий опыт сознания, будь то в поступке, в творении или в мысли. И опять-таки необходимо удержаться в таком положении вещей, держать данную тождественность. А это осуществимо только через заново обретенный опыт сознания, а, значит, только через символ. Комбинация знаковой и символической составляющей в данном случае может быть различной. Это может быть геральдическая форма, возникшая как символ, ставшая затем знаком и вновь используемая кем-то для обретения, помещения себя через нее в данное положение вещей.
Уже с этого момента та или иная геральдическая форма может быть текстом для внешнего пользования - геральдическим знаком, а может быть текстом, созданным для самопроизводства - то, что Ю.М. Лотман называет процессом автокоммуникации [31], то есть быть символом. Но, в отличие от любого другого автокоммуникативного текста, геральдическая форма дает информацию о социальной вещьности человека. А так как любая сфера человеческой деятельности может быть представлена как социальная, то она может иметь свое геральдическое выражение.
Особым предстает и характер символики на данном этапе, теперь значимым оказывается не сам факт существования, а факт обладания или не обладания определенными качествами, состояниями. Причем эти качества-состояния напрямую отсылают к свободе, к сознанию, следствиями и проявлениями которой (которого) они и являются, так как совершенно не гарантированы никакой вещностью. Вещи, которые могут отсылать к таким качествам-состояниям, к такому опыту сознания, и оказываются для сознания символами. Это та символика, которая соответствует экзистенциальному слою культуры.
Социальное пространство, представленное группами и иерархическими статусами, вырабатывает социальный институт идентификации - геральдику. Таким образом, я достаточно широко трактую феномен геральдики, помещая ее начало в глубокой древности как существенный элемент антропогенеза вообще - в обретении и держании опыта сознания социального бытия, и подводя под него огромное количество явлений знаково-символического характера: знаки власти, собственности, сословной, профессиональной, религиозной принадлежности, знаки отличия и наградные знаки, униформа, производственные и товарные знаки, торговые марки и логотипы и многое другое, что выполняет роль идентификатора в социальном пространстве.
Традиционно же термин "геральдика" связывают только с гербовой формой. Гербовой геральдикой представлен следующий этап развития геральдики в широком смысле слова, и развития отношений между символом и знаком. Гербовая форма отличается от остальных геральдических форм тем, что определяется всей совокупностью гербовых форм, то есть образует систему. Вопрос об образовании системы один из сложнейших для современной геральдики [32]. Какой можно дать ответ, если иметь в виду все вышесказанное? Главной чертой, помимо системности, оказывается совмещение в гербовой форме знака и символа, то есть герб это не то, что в одном случае знак, а в другом символ, а именно и знак, и символ одновременно. Для того чтобы быть одновременно и тем и другим, гербовая форма усложняет свою структуру, становится сложно организованным текстом, где одна его часть будет знаком, другая символом. Социальное бытие оказывается таким пластом культуры - цивилизацией, которое предстает в своей вещности со стороны социума, и в своей свободе, экзистенции - со стороны человека. То, что В.И. Медведев проговорил как "две четко определенные функциональные стороны" системы знаков: "Во-первых, всякий знак должен быть информационно емким, то есть адекватно, понятно и достаточно полно передавать необходимую информацию. Во-вторых, выступать побудителем к действию, социальному поступку. Эти две функции социальной информации, реализуясь в большей или меньшей степени в каждой из существующих сегодня знаковых систем, были основными факторами их становления, развития и усложнения" [33]. Выразить эту вещность можно только через знак, стать тождественным ей, только реализовав свою свободу, удержать эту тождественность только через символ. Гербовая форма - это такая форма, которая одновременно указывает на человека (группу) как особую социальную вещь [34] и провоцирует человека (членов группы) на новый опыт сознания, на актуализацию своей свободы, чтобы человек имел возможность быть таковой вещью. Хотя всегда, так как, в этом случае, мы имеем дело с символом, есть "риск" измениться, то есть осуществить историю. Для того чтобы стать таким текстом, оказывается необходимым соорганизоваться как знак, указывающий на то, что эта вещь - есть подобный текст. Когда одна вещь указывает на другую вещь (основной постулат семиотики) - это есть некоторое естественное положение вещей в мире. Поэтому герб, как вещь, являет собой особый знак, который указывает на то, что те вещи, с которыми мы имеем дело, есть и символы, отсылающие уже к сознанию - не - вещи, и знаки. Герб - это знак символа, знак знака. Как только герб становится таким знаком, а стать им он мог только в системности, обретя узнаваемую форму, становятся возможным новые отношения между символом и знаком, при которых не только те вещи, которые могут быть символом, а исходя из 3 постулата символогии, символ абсолютно непроизволен, (не всякая вещь может быть символом), но и другие вещи в рамках геральдической формы могут быть символом. Их символичность определяется, во-первых, другими символами, участвующими в работе системы, с которыми их ставят в один ряд, во-вторых, самой формой, отсылающей к ним как к символам. То есть сама системность, обретение формы знака, указывающего на эту системность, на её символико-знаковый дуализм, предстает как символичность.
В истории культуры таких сложившихся систем не много: это японский мон [35], это шотландский кильт [36], и это герб, с определенной оговоркой к таким системам относится и вексилология - система флагов. Во всех этих системах отдельные формы оказываются одинаковым образом организованы, что и делает эту форму организации знаком такой системы: символико-знаковой дуальности этих форм. Образование такой системности происходит в рамках одного социального измерения или одной социальной группы. Тогда сама форма, указывающая на системность, оказывается знаком этой социальной группы как вещи, а "начинка" лишь обозначает свободное, (а тогда не обозначает, а символизирует) обретение членства в такой социальной группе, указывает на конкретного человека, или на группу. Такой конкретной свободной группой, становящейся частью другой вещной группы, является род. И в случае ранних гербовых форм, и в случае японского мона, и в случае шотландской клетки - все эти формы впервые возникают, а мон и кильт таковыми и остаются, как, сообщение опосредованное самой системой о статусе - положении такой экзистенциальной единицы как род, (шотландская специфика заключается в том, что социальной вещью оказывается не сословие, а нация). Система одновременно указывает на вещь - социальный статус (группу) и на то, что знаки, отсылающие к конкретным действующим лицам, являются для этих лиц символами постольку, поскольку они выделяют эти лица, как героев обретения тождественности этой социальной вещности. Поэтому главным оказывается не объективная символичность используемых вещей, а знаковые функции, отделяющие одних лиц реализующих свою свободу в обретении социального статуса, от других. Поэтому и становится возможным использование в таких системах в качестве символов отделяющих ту или иную экзистенциальную - свободную единицу от других, для неё и для других, таких вещей, которые оказываются по знаковому произвольными, и не срабатывающими как символ за пределами этих систем. Таковыми выглядят и шотландская клетка и геральдические фигуры, будь то почетные или не почетные, а во многом и мон с его таким же графическо-дизайновым характером. Хотя, со временем, они могут быть проинтерпритированны как вещи более или менее содержательные.
Вероятно, во-первых, сам характер средневековой культуры, с его предельным символизмом, когда за каждую вещь в этом мире принято было воспринимать как проявление - указание на - символ другого уровня бытия - собственно бытия - Бога, предопределил возможность расширения поля вещей, которые могут служить строительным материалом для гербовых форм. Опять же, особый социальный строй средневековых обществ, нашедший выражение и в иерархичности, и в определенного рода унифицированности социального пространства, где феодальная свобода - суверенитет и оказывались тем измерением, через которое становилось возможным выразить большинство перипетий социальной динамики, по крайней мере, для тех слоев, которые были допущены до "игры" по этим правилам. Во-вторых, предопределили столь широкое распространение герба: "Способность герба вобрать в себя и олицетворять столь различные стороны средневековой действительности сделала герб чрезвычайно простым и употребительным средством социальной идентификации, а геральдическую систему в целом - универсальным и практически удобным инструментом выражения, оценки, а в какой-то мере и регулирования социальных отношений" [37]. Процесс институциализации социального института идентификации - геральдики завершился с окончательной "геральдизацией" процесса социального общения [38], с одной стороны, и с оформлением органов контроля с другой, что нашло свое отражение в слиянии права с геральдикой [39] и в оформлении института герольдов [40].
Дальнейшее развитие геральдики как социального института связано с появлением принципиально новых социальных тел или с выходом на социальную арену тех образований, которые до того оставались в тени, что предполагает обретение нового опыта сознания и создание новых геральдических форм, и новых форм институализации.
Примечания:
1. Либерман Д.В. О современном состоянии и нерешенных проблемах советской геральдики. Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XIX. - Л. 1987. с. 217
2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В.Русская сфрагистика и геральдика. Учебное пособие. Изд. 2-е. М.: "Высшая школа", 1974. с. 5.
3. Она открывается обращением Великой Княгини Марии Главы Российского Императорского Дома, что и указывает на то, что для них геральдика и генеалогия не мертвый груз, а что-то живое (так генеалогии родов в этом издании доходят до современников).
4. Дворянские роды Российской империи. Том 1. Князья. СПб., ИПК "Вести", 1993. с. 28.
5. Среди таких авторов следует назвать, во-первых, А.П. Черных - специалиста по европейской средневековой геральдике, который в ряде статей последовательно проговаривает геральдику как социальный феномен и рассматривает как источник дающий информацию о социальном устройстве средневекового общества всю геральдическую систему. Черных А.П. Новые книги по геральдике. Средние века. - М.: Наука., 1990. - Вып. № 53. с.254-259. Черных А.П. Трактат Бартоло Ди Сассоферато "О знаках и гербах". Средние века. - М.: Наука., 1989. - Вып. № 52. с.307-310. Черных А.П. Геральдика. Введение в специальные исторические дисциплины: Учеб. Пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1990. с.40-81. Во-вторых, Н.А. Соболеву - признанного лидера в вопросах касающихся русской территориальной геральдики. Она предпринимает попытку развести такие понятия как символ, герб, эмблема - соопределить их, неминуемо осуществляя выход на философию символа. Соболева Н.А. Российская городская и областная геральдика XVIII - XIX вв. - М.: Наука, 1981. - 236 с. с ил. Далее, коллектив авторов книги посвященной гербу и флагу России под редакцией Г.В.Вилинбахова - государственного герольдмейстера Российской федеоации, они начинают своё сочинение с теоретической главы: "Что такое герб: эмблема или символ?". Герб и флаг России. Х-ХХ века. - М.: Юрид. Лит., 1997. - 560 с. и 32 с. цв. ил. Следует отметить, что и Соболева и вышеназванный коллектив авторов в поисках ответа обращаются к лосевской философии символа. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. - М., 1976. Несколько в стороне стоит В.В. Похлебкин, он не ограничен интересом лишь к гербовой форме, но тем более тот огромный эмблематический и символический материал, который он пытается систематизировать требует теоретического осмысления - взгляда со стороны, обобщения. Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Междунар. отношения, 1994. - 560 с.
6. Черных А.П. Геральдика… с 42.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 72500 слов и 7500 фразеол. выражений / Российская А.Н. Ин-т рус. Яз.; Российский фонд культуры. - М.: Азъ Ltd., 1992. с. 944.
8. Ветров А.А. Семиотика и её основные проблемы. М., Политиздат, 1968. с. 9.
9. Степанов Ю.С. Язык и Метод. К современной философии языка. - М.: "Языки русской культуры", 1998. с. 19.
10. Лосев А.Ф. Логика Символа. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М.: Политиздат., 1991. с. 247.
11. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. - М.: Школа "Языки русской культуры"., 1997. с. 183.
12. Шейкин А.Г. Символ… с.406
13. Там же.
14. Так семиотика пытается применить в работе с символом инструментарий, выработанный при работе со знаками: Шейкин А.Г. Символ. Культурология. ХХ век. Словарь. СПб.: - Университетская книга. 1997. (Культурология. ХХ век.) с.406-407; для А.Ф. Лосева символ - это еще и знак: Лосев А.Ф. Логика Символа... с. 273; символические интеракционисты называют символом то, что, по сути, является знаком, например, жест, правда в их конструкциях эти знаки обладают субстанциональным статусом, что и провоцирует их на "высокий штиль", для них обычен такой оксюморон как "символ обозначает": Мид Дж. От жеста к символу. Американская социологическая мысль: Тексты. Под ред. В.И. Добренькова. - М.: Изд-во МГУ. 1994. с. 215-224; или вариант, где символы это особый (третий) язык, через который со-организуются другие языки: обычный и эзотерический: Бескова И.А. Язык символов как эпистемологический феномен Эволюция. Язык. Познание. - М.: Языки русской культуры, 2000. С. 134-162.
15. Смотри редакторскую аннотацию Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ… с 4.
16. Воронина Л . Вступление. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. - М.: Школа "Языки русской культуры"., 1997. с. 15.
17. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. - М.: Школа "Языки русской культуры"., 1997. с. 25-26.
18. Там же, с. 125.
19. Там же, с. 144.
20. Там же, с. 149.
21. Там же.
22. Там же, с. 151.
23. Там же, с. 25.
24. Там же, с. 192.
25. Там же, с. 132-133.
26. Там же, с. 122.
27. Там же, с. 96.
28. Там же, с. 129-130.
29. Примером символического отношения к имени служит философия имени Флоренского. Флоренский П.А. Имена Характер и имя. - Вып. 5. - СПб., 1992. с. 107-298.
30. Штакельберг Ю.И. Геральдика. Отечественная история: энциклопедия: В 5 т.: т 1: А-Д. Редкол.: В.Л. Янин (гл.ред) и др. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. с. 537.
31. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. - М.: "Языки русской культуры", 19
Оставьте свой комментарий и поделитесь с ним с друзьями во ВКонтакте.
Геральдика за семиотикой и символогией
Обсуждение – комментарии, дополнения, новости
Еще никто не написал никаких коментариев. Вы можете стать инициатором обсуждения!
По всем вопросам, связанным с проектом Геральдика.ру, пишите, пожалуйста, на адрес support@geraldika.ru или можно оставить комментарий прямо на самой странице. |

 › Векторные изображения гербов, флагов и эмблем
› Векторные изображения гербов, флагов и эмблем ›
›  Обсудить ▼
Обсудить ▼